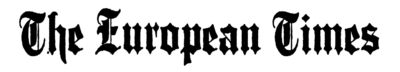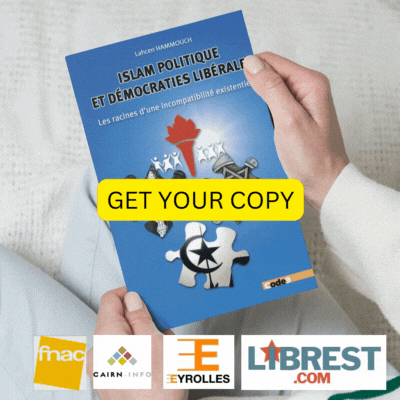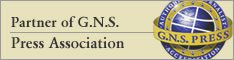Биологи-эволюционисты сообщают, что они объединили ПЭТ-сканирование современных голубей с исследованием окаменелостей динозавров, чтобы ответить на вечный вопрос биологии: как эволюционировал мозг птиц, чтобы они могли летать?

Птица – иллюстративное фото. Изображение предоставлено: Pixabay (Лицензия на бесплатную версию Pixabay)
Ответ, по-видимому, заключается в адаптивном увеличении размера мозжечка у некоторых ископаемых позвоночных. Мозжечок — это область в задней части мозга птиц, которая отвечает за движение и двигательный контроль.
Результаты исследования опубликованы в журнале Труды Королевского общества B.
«Мы обнаружили, что когда птицы переходят от покоя к полету, цепи в мозжечке активируются сильнее, чем в любой другой части мозга», — сказал соавтор исследования. Поль Жиньяк, доцент Университета Аризоны Медицинский колледж - Тусон, изучая нейроанатомию и эволюцию. Он также является научным сотрудником Американского музея естественной истории.
«Затем мы изучили череп, соответствующий этой области окаменелостей динозавров и птиц, чтобы отследить, когда мозжечок увеличился», — сказал Жиньяк. «Первый импульс увеличения произошел еще до того, как динозавры взлетели, что показывает, что в полете птиц используются древние и хорошо сохранившиеся нейронные реле, но с уникально повышенным уровнем активности».
Ученые давно считали, что мозжечок играет важную роль в полете птиц, но у них не было прямых доказательств. Чтобы определить его ценность, новое исследование объединило современные данные ПЭТ-сканирования обычных голубей с летописью окаменелостей, изучая области мозга птиц во время полета и черепные коробки древних динозавров. ПЭТ-сканирование показывает, как работают органы и ткани.
«Полет с помощью двигателя среди позвоночных — редкое событие в истории эволюции», — сказала ведущий автор Эми Баланофф из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса.
Фактически, только три группы позвоночных, или животных с позвоночником, научились летать: вымершие птерозавры – ужасы неба в мезозойский период, который закончился более 65 миллионов лет назад – летучие мыши и птицы, сказал Баланофф. Эти три летающие группы не имеют тесного родства на эволюционном древе, и ключевые факторы, которые позволили летать всем трем, остались неясными.
Помимо внешних физических приспособлений для полета, таких как длинные верхние конечности, определенные виды перьев, обтекаемое тело и другие особенности, команда провела исследование, чтобы найти особенности, которые создают мозг, готовый к полету.
Для этого в команду вошли биомедицинские инженеры из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке, чтобы сравнить активность мозга современных голубей до и после полета.
Исследователи провели ПЭТ-сканирование, чтобы сравнить активность 26 областей мозга, когда птица находилась в состоянии покоя и сразу после этого в течение 10 минут летала с одного насеста на другой. Они сканировали восемь птиц в разные дни. При ПЭТ-сканировании используется соединение, похожее на глюкозу, которое можно отследить до того места, где оно наиболее усваивается клетками мозга, что указывает на повышенное использование энергии и, следовательно, на активность. Трекер разлагается и выводится из организма в течение суток-двух.
Из 26 областей в одной области — мозжечке — наблюдалось статистически значимое увеличение уровня активности между отдыхом и полетом у всех восьми птиц. В целом уровень повышения активности мозжечка существенно отличался по сравнению с другими областями мозга.
Исследователи также обнаружили повышенную мозговую активность в так называемых путях зрительного потока — сети клеток головного мозга, которая соединяет сетчатку глаза с мозжечком. Эти пути обрабатывают движение по полю зрения.
Баланофф сказал, что результаты команды по увеличению активности в мозжечке и путях зрительного нерва не обязательно удивительны, поскольку предполагалось, что эти области играют роль в полете.
Новым в их исследованиях было объединение данных о мозжечке современных птиц, способных летать, с летописью окаменелостей, которая показала, как мозг птицеподобных динозавров начал развивать состояния мозга, необходимые для полета с помощью двигателя.
Для этого команда использовала оцифрованную базу данных эндокастов или слепков внутреннего пространства черепов динозавров, которые при заполнении напоминают мозг.
Затем они идентифицировали и проследили значительное увеличение объема мозжечка у некоторых из самых ранних видов динозавров-манирапторов, которые предшествовали первым появлениям механизированного полета среди древних родственников птиц, в том числе Археоптерикс, крылатый динозавр.
Исследователи во главе с Балановым также обнаружили в эндокастах доказательства увеличения складок тканей в мозжечке ранних манирапторов, что указывает на увеличение сложности мозга.
Исследователи предупредили, что это ранние результаты, и изменения активности мозга во время полета с двигателем могут также происходить и во время других действий, таких как планирование. Они также отмечают, что их тесты включали прямой полет, без препятствий и по легкой траектории, а другие области мозга могут быть более активными во время сложных маневров полета.
Далее исследовательская группа планирует определить точные области в мозжечке, которые обеспечивают готовность мозга к полету и нейронные связи между этими структурами.
Научные теории о том, почему мозг становится больше на протяжении всей эволюционной истории, включают необходимость пересекать новые и разные ландшафты, подготавливая почву для полета и других стилей передвижения, говорит соавтор Габриэль Бевер из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса.
Среди других авторов исследования — Элизабет Феррер из Американского музея естественной истории и Университета Сэмюэля Мерритта; Лемизе Салех и Пол Васка из Университета Стоуни-Брук; М. Юджиния Голд из Американского музея естественной истории и Саффолкского университета; Хесус Маругán-Lobón Автономного университета Мадрида; Марк Норелл из Американского музея естественной истории; Дэвид Уэллетт из Медицинского колледжа Вейл Корнелл; Майкл Салерно из Пенсильванского университета; Акинобу Ватанабэ из Американского музея естественной истории, Нью-Йоркского технологического института, колледжа остеопатической медицины и Лондонского музея естественной истории; и Шоуи Вэй из Нью-Йоркского протонного центра.
Это исследование финансировалось Национальным научным фондом.
Источник: Университет штата Аризона