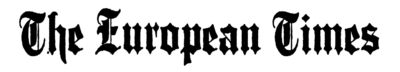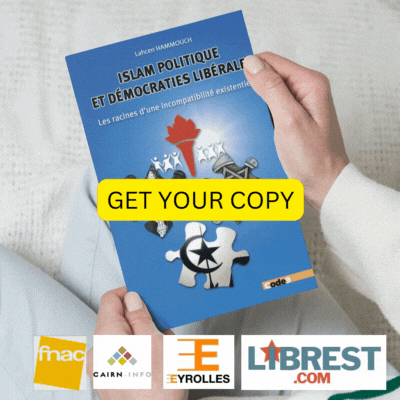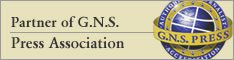В первый период своего существования Церковь состояла из многочисленных общин, совершенно обособленных и самостоятельных, не имеющих канонических связей друг с другом – в нашем употреблении этого слова. В то же время никогда позже сознание единой Церкви не было так чрезвычайно сильно среди христиан, как именно тогда, когда «единая Церковь была не только идеей, но самым реальным фактом»[15]. И это было так, потому что каждая церковь, каждый отдельный муниципалитет – в себе, в своем местном единстве – имел живой опыт единства народа Божия. И «единство внешней организации не существовало не потому, что оно якобы противоречит самому христианскому представлению о Церкви, как склонны представлять события протестантские ученые, а только потому, что в действительности было такое единство, которое был еще глубже и уже. По сравнению с позднейшими формами общения — формальным, юридическим и канцелярским — формы общения, которые можно выделить в Церкви в ранние времена ее жизни, свидетельствуют о большем проникновении среди христиан идеи единой церкви». [ 16 ] Иными словами, единство Церкви не определялось каноническими связями, но сами они представляли собой развитие, воплощение и сохранение того единства, которое дано прежде всего в единстве поместной церкви.
Итак, локальность и универсальность – такова двойственная основа кафоличности Церкви. Единая Вселенская Церковь не распадается на отдельные части и является не какой-то федерацией церквей, а живым организмом, в котором каждый член живет жизнью целого и отражает в себе всю его полноту. Таким образом, местное единство оказывается необходимым условием вселенского характера Церкви, органической основой ее соборности.
4. Развитие церковной системы
Однако если поместный принцип есть первичная и основная норма церковного устройства, органически вытекающая из самой природы Церкви, то в истории этот принцип воплощался по-разному – в зависимости от изменяющихся внешних условий жизни Церкви.
Первым этапом этого развития было объединение поместных церквей в более крупные церковные области и установление — параллельно — иерархии старших и младших церквей. Первоначально христианство утвердилось в крупных городах Римской империи, после чего вокруг этих первых центров постепенно возникли новые общины, естественно сохранившие свои связи с соответствующей материнской церковью, от которой они получили иерархию, «правило веры» при время их основания. и литургической традиции. Таким образом, еще в эпоху гонений уже образовались естественные церковные объединения или области, по которым епископ старшей церкви получал титул митрополита. Митрополит рукополагал новоизбранных епископов в своем районе, дважды в год председательствовал на областных епископских соборах и был апелляционной инстанцией в делах между отдельными епископами или в жалобах на епископов. В свою очередь, митрополии группировались вокруг древнейших или митрополичьих соборов – Рима, Антиохии и т. д., чьи епископы впоследствии стали называться патриархами. На момент преобразования имп. Константина в христианство, эта естественно развивающаяся структура церковной организации была почти повсеместно утверждена и санкционирована на Первом Вселенском Соборе (325 г.)[17].
Конечно, примирение Римской империи с христианством оказало глубочайшее влияние на жизнь Церкви, и отныне ее внешняя судьба стала все более и более определяться ее союзом с государством. А поскольку Римская империя объявила себя христианским государством, а все ее подданные стали членами Церкви, то и Церковь довольно последовательно стала согласовывать свое устройство с административным устройством Империи. «Порядок церковных приходов должен следовать за государственным и гражданским распределением» — так гласят каноны этой эпохи (Четвертый Вселенский Собор, 17; Трульский Собор, 38)[18]. В то же время было подтверждено и окончательное распределение Церкви в границах пяти великих патриархатов, вследствие чего — в силу указанной выше причины — возросло значение некоторых епископских соборов по отношению к значению соответствующих им города с государственной точки зрения. Наиболее показательным примером в этом отношении является быстрый рост значения и могущества Константинопольского епископа, который уже на Втором Вселенском соборе (с 381 г.) получил — как «епископа Града Царя и Синклита» (Правило 3 )[19] – второй после епископа старого Рима.[20]
Мы говорим об этой эволюции, поскольку в ней ясно намечается органический закон развития церковного строя. С одной стороны, Церковь неизменно «следует» за историей, т. е. сознательно и планомерно приспосабливает свою структуру к формам мира, в котором она живет. Однако в этой адаптации она не меняет тех основ, которые, представляя самую ее сущность, не могут зависеть от внешних исторических условий. Какие бы изменения ни происходили в системе группировки церквей, в их взаимном старшинстве, в действии соборного института и т. п., неизменным остается поместный принцип — как корень, из которого вырастают все разнообразные формы церковной организации. И каноническая деятельность Вселенских и Поместных Соборов неизменно направлена на сохранение этого самого принципа – что «церкви никогда не должны смешиваться» (Второй Вселенский Собор, Правило 2)[21]. Здесь мы имеем в виду каноны, запрещающие пребывание двух архиереев в одном городе, каноны, регулирующие переход клириков из одной епархии в другую, каноны, предписывающие «ни в коем случае не совершать хиротонии [в какой-либо степени церковной иерархии» (прим. пер..)], кроме как при назначении в [некоторую (прим. пер.)] городскую или сельскую церковь»[22] и т. д. (см., например, Четвертый Вселенский Собор, правила 6, 10, 17; Трулльский Собор, 20 ; Антиохийский собор, 9, 12, 22; Сердский собор, 12). Все эти каноны, понимаемые в собственном историческом и церковном контексте, на самом деле сохраняют один и тот же основной факт церковной жизни — необходимость того, чтобы христиане в одном месте, объединенные под благодатной властью одного епископа, составляли в этом месте органическое единство, показать и воплотить католическую и вселенскую сущность Церкви.
Таким образом, в связи с этим развитием мы можем лишь повторить уже приведенные слова о. Н. Афанасьев: «Церковная жизнь не может принимать произвольных форм, а только такие, которые соответствуют сущности Церкви и способны выразить эту сущность в конкретных исторических условиях».
5. Местный, всеобщий, национальный
Отметив неизменный и «органический» характер этого основного принципа развития церковной организации, необходимо теперь проследить действие того нового фактора, который постепенно вошел в жизнь Церкви в послевизантийскую эпоху и который уже совсем тесно подводит нас к нашим современным трудностям. Этот фактор является национальным.
Римская империя считала себя всемирной наднациональной империей и даже называла себя «вселенной» (экуменой). Став христианкой, т. е. приняв христианство как свою веру, она продолжала видеть свое религиозное призвание и цель в объединении всех народов в едином христианском царстве, соответствующем — по земному — объединению всех людей в одну Вселенскую Церковь. [23] Эту веру разделяли (хотя никогда не «догматизировали») и представители Церкви. Поэтому в византийских церковных писаниях того времени часто указывается на провиденциальное совпадение одновременно объединения человечества в одно вселенское государство и в одну истинную религию.
Но нужно ли напоминать, что этой мечте о едином христианском царстве не суждено было сбыться и что в действительности с течением времени Империя все более и более теряла свой вселенский характер? Сначала нашествия варваров отрезали от него запад, а арабы, славяне и тюрки без перерыва – до момента его окончательного распада – выедали его с севера и с востока. В IX-X веках Византия стала относительно небольшим греческим государством, окруженным со всех сторон вновь возникающими «варварскими» государствами. В свою очередь, последние, враждуя с Византией и, таким образом, вступая с ней в самое тесное соприкосновение, сами подпали под ее религиозно-культурное влияние и приняли христианство. Здесь впервые с особой остротой был поставлен вопрос о церковном национализме.
Теперь, в отличие от начального этапа распространения христианства в эпоху гонений, уже не отдельные лица, а целые народы принимают его и крестятся в результате своего личного обращения. Таким образом, осуществляемое сверху, государственной властью, принятие христианства закономерно приобретало национальный и политический характер. Таково обращение Болгарии в 9 веке, таково обращение Руси в 10 веке. И для св. князя Бориса, и для св. Владимира обращение собственного народа есть не только его просвещение светом истинной веры, но и путь к национально-государственному самоопределению и самоутверждению.
Однако парадоксальным образом религиозно-политическая концепция, воспринятая молодыми православными народами от Византии и ее идеала христианского мира и христианского государства, вновь столкнулась с византийской концепцией единого православного царства – идеалом, который, несмотря на свою историческую провал, продолжает господствовать в умах и сердцах византийцев. В византийской мысли обращение новых народов, естественно, означало их включение в единый имперский религиозно-государственный организм, как правило, они подчинялись вселенскому православному царству. Но на самом деле это самое царство уже давно утратило свой подлинный вселенский и наднациональный характер, и для новообращенных народов византийская идеология очень часто оборачивалась греческим церковно-политическим империализмом. В то время «в греческой церкви пафос раннехристианского вселенского единства в любви был уже в значительной степени угашен. И очень часто на его месте появлялся национально-греческий пафос… В самой Византии почти уже не звучал тот некогда могучий аккорд языков, так чудесно представленный Сионской горе как символ и знак христианского евангелия у всех народов. .[24] Так началась борьба между этими национализмами, которая неминуемо затронула — в силу своего религиозного характера — и церковную жизнь. Одной из главных целей молодых православных народов является обретение ими церковной автокефалии – как основы их церковной и политической независимости – и их борьба за автокефалию красной нитью проходит с тех пор и по сей день через всю историю православного мира. [25] ]
Во избежание недоразумений сразу скажем совершенно определенно, что сам по себе этот национальный момент в христианстве далеко не зло. Прежде всего, замена одного христианского царства многими христианскими народами является таким же историческим фактом, как и обращение в христианство бесов. Константин. А так как она не абсолютизирует никакой формы исторического бытия, существовавшей в том мире, в котором она сама живет, то Церковь может одинаково приспосабливать свою жизнь как к греко-римскому пониманию вселенской Империи, так и к национальным формам государственности. Церковь всегда была и полностью «в этом мире», и столь же полностью «не от мира сего». Ее сущность, ее жизнь не зависят от форм в этом мире. Более того, как примирение Империи с христианством после трехвекового конфликта принесло плоды величия и святости перед лицом идеала христианской государственности и христианской культуры, так и образование христианских народов, осознавших цель и смысл их национального бытия в служении Христианской Истине и в посвящении своих национальных даров Богу, остается навеки неувядаемая слава Церкви. Таков идеал Святой Руси и великой русской культуры, идеал, неотделимый от воспитавшего его Православия. И Церковь, однажды благословив Империю в ее «вселенском» смысле, таким образом благословила и освятила это национальное служение той же самой Истины.
Однако, отдавая должное всей положительной ценности национального в христианстве, мы не должны впадать и в идеализацию истории. Видя свет, мы не должны закрывать глаза на тень. Путь Церкви в этом мире – в земной истории – никогда не был идиллией и требует неутомимого подвига и напряжения церковного сознания. Никакая формула не спасительна сама по себе — ни вселенская Империя, ни Святая Русь, ни «симфония» между церковью и государством, — и каждая из этих форм должна быть постоянно наполнена не только теоретической правильностью, но и живой справедливостью. Ибо как византийский идеал «симфонии» церкви и государства слишком часто на практике превращался в простое подчинение церкви государству, так и здесь, в условиях этого нового национального пути — с его теневой стороной — скорее подчинение Церкви национальному, чем просвещение этого национального Церковью. А опасность национализма состоит в подсознательном изменении иерархии ценностей — когда люди уже не служат христианской Истине и меряют ею себя и свою жизнь, а наоборот — начинают мериться само христианство и сама Церковь. и оцениваются с точки зрения их «заслуг» перед народом, родиной, государством и т. д. Ныне, увы, многим кажется вполне естественным, что право Церкви на существование должно доказываться ее национальными и государственными заслугами. , через его «утилитарную» ценность. Говоря о Святой Руси, слишком часто забывают, что для той древней Руси, которая несла на своей спине этот идеал, национальное бытие было ценно не само по себе, а лишь постольку, поскольку оно служило христианской Истине, защищая ее от «неверных», оберегая истинная вера, воплощающая эту веру культурно, социально и т. д. Иными словами, истинная формула этого религиозно-национального идеала прямо противоположна той, с которой один из великих русских иерархов в Советской России говорил, что «церковь всегда был со своим народом». Но для идеологов и мыслителей древней Руси ценность народа как раз и состояла в том, что народ всегда был с Церковью. И именно в этой сфере национального, где так силен голос крови, стихийных и непросветленных чувств и эмоций, так необходимо «стоять на страже» и различать духов – от Бога ли они.
6. Распад вселенского сознания
В то же время, хотя в истории Церкви «воцерковление» новых народов вписало столько страниц света и святости, нельзя отрицать, что одновременно с ним в Православии уже начался распад вселенского сознания. . И произошло это именно в результате того, что в эту эпоху вопрос об организации Церкви был поставлен не только церковно, но и политически, и национально. Главной целью каждого национального государства стало обретение любой ценой автокефалии, понимаемой как независимость данной национальной церкви от старых восточных центров и, прежде всего, от Константинополя. Повторим: дело здесь не в том, чтобы кого-то обвинять или защищать. Едва ли можно отрицать, что в основе этого печального процесса лежит прежде всего вырождение византийского универсализма в греческий национализм. Важно понимать, что это смысловое отождествление автокефалии и самостоятельности является типичным явлением нового духа, появившегося в то время в Церкви и свидетельствующего о том, что церковное сознание уже начало определяться изнутри государственно-национальным, вместо того, чтобы само определять и просвещать это государство-национальное. На церковный строй бессознательно переносились национальные и политические категории, ослабевало сознание того, что формы церковного строя определяются не этими категориями, а самой сущностью Церкви как богочеловеческого организма.
(продолжение следует)
* «Церковь и церковное устройство. О книгах прот. Польское каноническое положение высших церковных властей в СССР и за рубежом» – В: Шмеман, А. Сборник статей (1947-1983), М.: «Русский путь», 2009, с. 314-336; текст был первоначально опубликован в: Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата, Париж, 1949.
Ноты:
[15] Троицкий В. Цит. там же, с. 52.
[16] Там же, стр. 58.
[17] Подробное изложение этой эволюции в: Болотов В.В. Лекции по истории Церкви, 3, СПб. 1913, стр. 210 и далее; Гидулянов, П. Митрополиты в первые три века христианства, М. 1905; Мышкин, В. Структура христианской церкви в первые два века, СПб. 1909 г.; Суворов, Н. Курс церковного права, 1, 1889, с. 34 сл.
[18] См.: Устав Святой Православной Церкви с толкованиями его, 1, с. 591; 2, с. 195 (перевод прим.).
[19] Дословно текст правила гласит: «Епископ Константинопольский имеет приоритет в чести после епископа Римского, ибо город сей есть новый Рим» (Устав Святой Православной Церкви с их толкованиями, 1, с. 386). Приведенные автором слова взяты из текста 28-го правила Четвертого Вселенского Собора (451 г.), которое подтверждает и дополняет смысл 3-го правила Второго Вселенского Собора: Там же, стр. 633-634 (пер. прим.) .
[20] По этому вопросу: Болотов В. Цит. соч. cit., стр. 223 и далее. и Барсов Т. Константинопольский Патриархат и его власть над Русской Церковью, Санкт-Петербург. 1878 г.
[21] Уставы Святой Православной Церкви с их толкованиями, 1, с. 378 (перевод прим.).
[22] Там же, с. 535 (перевод прим.).
[23] Об этом идеале и его источниках см.: Карташев А. «Судьбы Святий Руси» — В кн.: Православная мысль, Труды Правословного богословского института в Париже, 1, 1928, с. 140 сл. См. также мою работу «Судьбы византийской теократии» — Там же, 5, 1948, стр. 130—147.
Перевод этой статьи о. Александр в: Христианство и культура, 4, 2009 г., стр. 52-70 (примечание пер.).
[24] Киприан (Керн), архим. Отец Антонин Капустин (архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме), Белград 1934, с. 76.
[25] К истории этой борьбы: Голубинский, Е. Краткий очерк истории Правословних Церквей Болгарской, Ребской и Руменской, М., 1871; Лебедев А.П. История греко-восточных церквей под властью Турции, 1-2, Сергиев Посад, 1896; Радожич, Н. «Св. Савва и автокефалия Церкви Сербской и Болгарской» – В: Гласник Сербской академии наук, 1939, с. 175-258; Барсов, Т. Цит. такой же