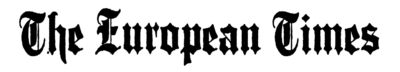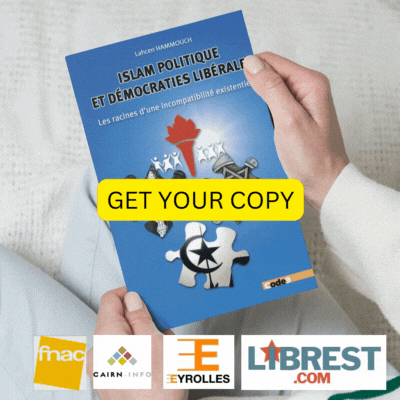Парадоксы развития русской культуры – Максимализм –
Культура связана с чувством меры – с чувством собственного предела. Еще древние греки, создатели одной из величайших мировых культур, в известном смысле матери нашей современной культуры, помещали понятие μέτριος — прилагательное, означающее именно меру, гармонию[1], а потому и естественную ограниченность всего совершенство. А мера предполагает порядок, структуру, структуру, форму, соответствие формы и содержания, полноту и законченность. Очевидно, что художники этой культурной традиции понимали, что самое трудное в творчестве именно в самоограничении, в осознании своего предела и в своеобразном смирении перед ним.
Вместе с тем один из парадоксов русской культуры состоит в том, что с самого начала ее важнейшей составляющей оказалось некое отрицание именно этого μέτριος — того пафоса максимализма, который стремится устранить как меру, так и на границе. Парадоксальность этой особенности заключается в том, что пафос максимализма присущ именно самой русской культуре. Как раньше, так и за пределами России максимализм, фанатизм, отрицание культуры во имя каких бы то ни было ценностей очень часто приводило к разрушению культурных ценностей, но это было явно проявлением чего-то внекультурного, антикультурного. В нашей стране – и это как раз парадоксально – чувство этого, это стремление было присуще самим носителям культуры, ее творцам. И это вносило и вносит особую поляризацию внутри самой культуры, делая ее хрупкой и часто противоречивой – даже, в буквальном смысле, призрачной.
Истоки этого максимализма надо искать в древнерусском восприятии византийского христианства. О смысле и значении этого основного факта русской истории написаны сотни книг; так или иначе, он всегда стоял в центре русских споров и поисков. Его особое значение для судеб русской культуры заставляет вновь и вновь обращаться к нему.
Остановимся лишь на одной из сторон этого феномена, которая поможет нам объяснить постоянное напряжение русского культурного самосознания – его постоянное обращение к некоему поистине взрывному максимализму. Многие русские историки отмечают относительно легкое принятие Русью христианства в его византийском обличье. Гораздо реже, однако, обращают внимание на то, что в процессе этого принятия было усвоено далеко не все, что входило в понятие христианского византинизма.
Принципиальная разница между «византийской и русской версиями христианства» заключалась в том, что христианская Византия была наследницей столь богатой и глубокой греческой культуры, тогда как Киевская Русь таким культурным наследием не обладала. Для византийца христианство было венцом долгой, сложной и бесконечно богатой истории, оно было воцерковлением всего мира красоты, мысли и культуры. Древняя Русь не могла иметь такой культурной памяти и такого чувства завершенности и завершенности. Естественно, что в этой ситуации присущий христианству максимализм по-разному воспринимался в Византии, с одной стороны, и на Руси, с другой.
То, что христианство максималистично, бесспорно. Все Евангелие построено на максималистском призыве: ищите прежде Царства Божия[2], на предложении все отбросить, все отрицать и всем пожертвовать – ради грядущего, в конце времен, Царства. Бога. И нельзя сказать, что христианская Византия как-то «минимизировала» этот призыв, смягчила свою решительность. Однако в сложной системе христианского учения, разработанной Византией, максимализм этого учения представлен в некоей иерархии ценностей, в которой они нашли себе место, а тем самым в некотором роде ценности мира сего и, прежде всего, прежде всего ценности культуры. Весь мир был как бы покрыт величественным куполом Святой Софии – Премудрости Божией, изливающей свой свет и благословение на всю жизнь и на всю человеческую культуру. Однако купол киевской «Святой Софии», построенный по византийскому образцу и вдохновению, не имел в своем собственном смысле ничего, что могло бы прикрывать и благословлять — древняя, только что возникшая Киевская Русь не имела никакой иерархии ценностей, которая имела бы примириться с евангельским максимализмом. Для этой сложной, но и гармоничной связи культуры с христианским максимализмом, составляющей суть христианской Византии, в самой России не было ни места, ни данных, ибо не было там одной из составных частей этой связи. а именно, старая, богатая и глубокая культура.
Древней Руси не пришлось пережить длительного, сложного и часто особенно болезненного процесса примирения культуры с христианством, христианизации эллинизма и эллинизации христианства, процессов, ознаменовавших пять-шесть столетий византийской истории. Древняя Русь почти не имела истории. Что, в свою очередь, означает, что византийское христианство было принято на Руси и как вера, и как культура, и что, таким образом, присущий христианской вере максимализм оказался практически одной из главных основ ее новой культуры.
Приняв византийское христианство, Россия не интересовалась ни Платоном, ни Аристотелем, ни всей традицией эллинизма — всем тем, что оставалось живой и жизненной реальностью для христианской Византии. Древняя Русь не отдала ни одной частицы своей души, своего внимания и своего интереса византийской культуре. Историки подчеркивают, что, несмотря на обилие своих церковных и политических связей с Константинополем, Россия всей душой стремилась не к нему, а к Иерусалиму и Афону. В Иерусалим, как место настоящей истории Христа – Его унижений и Его страданий, и на Афон, на Монастырскую гору – как место настоящего христианского подвига. Что образ евангельского – распятого и униженного Христа вместе с образом богатыря-монаха, с образом подвижника – пронзил русское самосознание гораздо сильнее, чем все тонкости византийской догматики и все великолепие Византийский церковно-культурный мир. Поистине удивительным образом русское христианство началось без своей школы и школьной традиции, и русская культура как-то в то время оказалась центром храма и богослужения.
Разумеется, начала создаваться и русская христианская культура. Одно дело, однако, когда храм был построен в центре древнего – оплодотворенного культурой – греческого города, в котором одной из его задач оказалось соединение культуры с христианством, в христианизации этой культуры, и совсем другое, когда в этом самом храме показывали все: и веру, и культуру. Именно это и произошло в России. Его культура, его истинная культура оказалась сосредоточенной в храме, где сущностью этой культуры стало, так сказать, самоукорение, обращение к тому максимализму, который требует отречения от мира. И все, что верно, все прекрасное и великое в древнерусской культуре, есть в то же время призыв к бегству, к отречению, к освобождению себя. Или, если не убежишь, отдать свои силы на построение одного последнего, совершенного, всецело устремленного в небо и живущего небом, «царства», в котором все без остатка будет подчинено одному нужному.
Так максимализм стал судьбой и русской культуры, и русского культурного самосознания. Не только в прошлом, но и позже, когда оборвалась непосредственная связь христианства с культурой, он меньше всего вдохновлялся культурой как мерой, как пределом и как формой. В известном смысле можно даже сказать, что в нашей стране — в России — не возникло, не сформировалось само понятие культуры: ибо культура как совокупность знаний, ценностей, памятников и идей — совокупность, которая передается из поколения в поколение за поколением для сохранения и воспроизводства, а также как мера творчества. Потому что христианская культура, нашедшая свое выражение в храме, в богослужении и в быту, по самой своей природе оказалась чуждой идее развития и творчества, потому что стала священной и статичной, исключающей сомнения и поиски; и в нашей стране не было другой культуры, кроме этой.
И потому и здесь всякое творчество, всякое искание и изменение ощущалось как бунт, почти как кощунство и анархия, и поэтому сущность культуры никогда не понималась как творческая преемственность. [Каждый творец оказывался еще и революционером — он мог создавать и создавать что-то принципиально новое, только на руинах, не допуская никакого развития, никакой ревизии того, что он построил.]
Таковы истоки максимализма — как отрицания меры и предела — с которыми нам так часто приходится сталкиваться в сложной диалектике русского культурного самосознания. И этот максимализм не смогла искоренить даже петровская культурная реформа, так резко приблизившая Россию к западной культурной традиции. И здесь тоже можно говорить о существенном парадоксе: одна из производных от этой инкорпорации в западную культуру — великая русская литература XIX века — оказалась для Запада фактором, взрывающим именно меру и ограничения западной культуры изнутри, что она привнесла в себя взрывчатую субстанцию такого поиска, таких озарений и напряжения, которые подорвали ее стройное и размеренное здание.
Знаменитые слова о русском мальчике, который, получив карту звездного неба, через полчаса вернул ее исправленной[3], не лишены глубокой справедливости. Русские после Петра оказались потрясающими учениками. Менее чем за столетие все приемы западной культуры были усвоены Россией. Но студенты, после обучения, естественно и почти бессознательно возвращались к тому, что было привито им с самого начала, а именно к тому максимализму, который на Западе был почти полностью нейтрализован веками умственной и социальной дисциплины.
И это относится, хотя и по-разному, ко всем трем слоям русской культуры, к трем культурным группам, о которых мы говорили в предыдущем нашем разговоре[4] – и в народной культуре, и в том, что мы назвали технико-прагматическим, и, наконец, в державинско-пушкинско-гоголевская культура — везде видно это постепенное накопление взрывного максимализма, как и ощущение невозможности удовлетвориться одной культурой; возможно, из-за отсутствия в нем привычек и методов, позволяющих решать вопросы, возникающие перед человеком. А это, в свою очередь, подводит нас ко второму парадоксу русского культурного самосознания – врожденному минимализму, противостоящему тому максимализму, о котором мы сегодня говорили.
Минимализм
В предыдущем разговоре об основах русской культуры мы говорили о максимализме – как об одном из характерных свойств и даже парадоксов развития русской культуры. Мы связываем этот максимализм с византийско-христианскими истоками русской культуры, придававшими ей стремление достичь нравственно-религиозного совершенства и оставившими в тени, — где-то на второстепенном плане, — осознание необходимости повседневного, планомерного и всегда неизбежного ограниченная культурная работа. Но, как известно, максимализм почти всегда довольно легко ассоциируется с минимализмом. Если кто хочет слишком многого, всего, недостижимого, такой относительно легко, в невозможности добиться этого всего, ни перед чем не смиряется. «Немногие» — «по крайней мере немногие» — кажутся ему ненужными, половинчатыми, недостойными его интереса и усилий. [Так, в известной мере, произошло и в русском культурном развитии, и историки и критики русской культуры часто указывают на эту черту в нашем национальном образе — «все или ничего»; она — эта черта — тоже часто служила одним из сюжетов художественной литературы.]
Стопроцентное в утверждениях ведет к стопроцентному в отрицании, и эта поляризация прослеживается здесь во всем развитии нашего национального самосознания. Так, например, истории государственного и культурного творчества Московской Руси противопоставляется и противопоставляется история ее постоянного «разбавления» изнутри отрицанием, бегством, отторжением. Когда во второй половине XV века формировалось московское государственно-национальное самосознание, оно тут же облеклось в крайнюю максималистскую идеологию Третьего Рима – единственного, последнего, чисто православного Царства, после которого «было четвертого не будет».[15]
Но это максималистское самоутверждение и самовозвеличивание — одновременно — сопровождалось и своего рода культурным нигилизмом. Особенно характерной с этой точки зрения была так называемая ересь иудейская[6], которая фактически покорила тогда почти всю высшую часть московского общества. Поражала в этом очаровании легкость разрыва с родной традицией и настойчивое, почти страстное желание разорвать связи со всеми обычными критериями веры, мысли и культуры и перевоплотиться в нечто совершенно им противоположное. Новгородские и московские первопапы — цвет и опора тогдашнего образованного слоя — тайно меняли свои русские имена на еврейско-библейские, тем самым отрицая в известном смысле собственную личность.
В действительности это было невиданное и загадочное явление, но сравнительно легко объяснимое одной из особенностей русской культуры – повторяющимся в ней стремлением выйти из истории и «действия» или, во всяком случае, сократить свое свою деятельность до минимума – из-за какого-то потустороннего идеала, который в истории, в нашей земной жизни, в нашей «деятельности», во всяком случае, есть нечто несбыточное. Этот минимализм русского культурного развития проявляется, прежде всего, в упорном сопротивлении любым изменениям и самой идее реформ, совершенствования и развития. В том, что писал Нил Сорский[7] – глава движения неприсвоителей, протестовавший не только против всякого «присвоения»[8] – Церкви, монастырей и духовенства, но и против самой идеи какой бы то ни было исторической ответственности, за какую бы то ни было собственную работу в истории – здесь тоже есть своеобразный привкус анархизма, антиисторизма и квиетизма.
(продолжение следует)
Источник: Шмеманн, А. «Парадоксы развития русской культуры» – В: Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александры Солженицыной, М.: «Русский Путь», 2012, стр. 247-260 (на русском языке).
Ноты:
[1] Буквально умеренный, сдержанный, пропорциональный; от μετρον – мера (прим. пер.).
[2] Матф. 6:33 (перевод прим.).
[3] Имеются в виду слова Алеши Карамазова (см.: Братья Карамазовы, ч. 4, кн. 10, гл. 6): «…Недавно я читал отзыв заокеанского немца, живущего в России, о нашей сегодняшней учащейся молодежи, который говорит: «Покажите русскому студенту карту звездного неба, о которой он до сих пор понятия не имел, и он вернет ее вам завтра все исправленное». Незнание и бескорыстное самомнение — вот что хотел сказать немец о русском студенте» (См.: Достоевский, Ф. М. Полное сабраны сочинений, п. 14, с. 502).
[4] А именно, в третьей, но первой сохранившейся из всего цикла бесед отца Александра «Основы русской культуры»: «Культура в русском самосознании» [«Культура в русском самосознании»] — В: В: Ежегодник…, стр. 242-247 (прим. пер.).
[5] Речь идет об идеологеме «Москва – Третий Рим», предложенной старцем Филотеем (ок. 1465 – 1542) «Псково-Елеазарова монастыря» и оформленной в виде письма к Великому князю Московскому Василию Ивановичу и царскому секретарю М. Г. Мунехину так: «Храни и береги, благочестивый царь, да соберутся все царства христианские в одно царство твое, ибо два Рима пали, а третий стоит; и четвертого не будет» (Весь текст см.: «Послание старца Филофея к великому князю Василию» — В кн.: Памятники литературы Древней Руси, п. 6: Конец XV — первая половина XVI в. в., М. 1984, стр. 441).
[6] Ересь «жидов» — религиозное течение, возникшее во второй половине XV века среди русского духовенства и высшего общества в наиболее культурных центрах России — Новгороде, Пскове, Киеве и Москве. Ересь была смесью иудаизма и христианства, она отрицала догмат Троицы, Божества Иисуса Христа и Искупления, предпочитала Ветхий Завет Новому, отвергала творения святых отцов, почитание мощей , святых икон и т. д. Следует заметить также, что вопрос о сущности этой ереси относится к темнейшим проблемам истории русского сектантства, так как характеристика ее по необходимости производилась с помощью обличительных слов; слова, предвзятые по отношению к ней и не имеющие точного представления о природе учения, которое нужно было разоблачить.
[7] Нил Сорский (в миру – Николай Майков; 1433-1508) был основоположником и главой «бесхозяйства» в России — противником церковного землевладения на соборе 1503 года в Москве и сторонником реформы монастырей на началах скифской жизни и личного труда. из монахов. Он также развивает идею «умной работы» — особого вида молитвенного созерцания, также известного как исихазм. Общее направление мысли Нила Сорского — строго аскетическое, призывающее преимущественно к внутреннему духовному подвижничеству, что отличает его от представлений об аскезе у подавляющего большинства русских монахов того времени.
[8] То есть – погоня за прибылью, т.е. корысть.