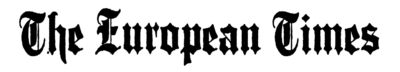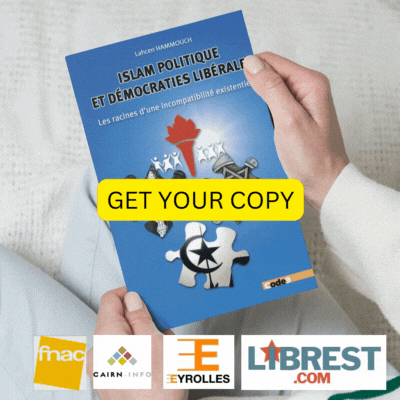Борис Вышеславцев.
В своей этической деятельности и суждениях человек не имеет права становиться на точку зрения Промысла. Он не имеет права судить о sub specie aeternitatis [с точки зрения вечности], усваивая точку зрения Бога, как если бы он сидел с Ним на престоле. В противном случае он может вообразить себя солнцем, сияющим одинаково и на хороших, и на плохих. Начать допускать и терпеть зло как проявление свободы воли, как это делает Бог с человеком. Может даже начать утверждать необходимость зла в развитии мировой трагедии, его разумность на путях Промысла. И, наконец, войти в роль злодея и предателя, считая, что эта роль необходима в мировой трагедии, предвиденной и задуманной Творцом и Его промыслом. И чем оно страшнее, тем больше смирение и самоуничижение и самопожертвование исполнителя, исполняющего его ради торжества правды и справедливости, ради торжества Промысла. Такова была роль Иуды. «Beata culpa» [блаженная вина] была бы вовсе не недостатком, а скорее заслугой, но если бы только Иуда мог предвидеть путь Промысла и имел право стоять с точки зрения исторической необходимости, т. е. самой Провидение. Апостол Павел сознает эти диалектические трудности и ставит проблему так: как могут быть наказаны грешники, если праведность и справедливость Божия лучше всего проявляются в их несправедливости? «Не должны ли мы тогда делать зло, чтобы пришло добро?» (Рим. 3:8).
Если соблазны должны явиться в мир, то кто-то должен взять на себя вину за это — вывести их в мир, хотя и зная, что лучше бы (субъективно, а не объективно) не родиться для этой роли. В самом деле, нет более возмутительной двусмысленности, более возмутительной quaternio terminorum [ошибка четырех терминов, т. е. дедуктивная логическая ошибка], чем это «должен» и «должен». В одном случае это суждение божественного промысла об исторических судьбах (искушения должны прийти в мир), а в другом — суждение человека о его нравственном долге, о его конечной задаче во времени и пространстве: он должен взять на себя винить себя.
Однако это не логическая ошибка и не софизм: вся проблема явно заключена в двух аспектах обязательного. 1) божественная необходимость Промысла и 2) человеческая необходимость нравственного действия. В своем нравственном долге человек не имеет права стоять с точки зрения обязательного в смысле Промысла, с точки зрения исторической необходимости или необходимых степеней развития Абсолютного Духа. Она не имеет права стоять на точке зрения историософии Гегеля (т. е. точки зрения «Абсолютного Духа») или теодицеи Лейбница. Столь же вульгарно и безнравственно для него говорить: в этом лучшем из миров все идет к лучшему, а история есть прогресс в сознании свободы. Ибо это значит оправдывать преступления истории, например зверства революции, как необходимые этапы развития свободы. Если «все идет к лучшему», то «все позволено».
К этой мысли можно прийти и с противоположной стороны: человек не может стоять на точке зрения Промысла и абсолютного суда даже тогда, когда последний соответствует его человеческому пониманию добра, зла и справедливости. Например, его жажда мести, истребления злодея не может быть истолкована как требование божественной мести. В противовес этому звучат слова: Мне отмщение, Я воздам. А Бог награждает по-другому и не тогда, и не там, где мы думаем и хотим. И мы не должны оправдывать палача, отождествляя его действие с волей Провидения и божественным гневом, как это делает Жозеф де Местр. Именно поэтому всякий палач гнуснее всякого злодея, потому что он присваивает себе санкцию непогрешимости, санкцию Промысла и «объективного духа», а злодей несет на себе явную печать греха и греха. преступление, и то более скромное и – верное.
Человек не имеет права ни вершить страшный суд, ни предвосхищать его. Об этом свидетельствует притча о сорняках: то, что «объективно» кажется ему ничтожным и ненужным, не может быть уничтожено ради свершения абсолютной справедливости (например, у Раскольникова — убийство злой старухи и вообще вся проблема великие личности, исполняющие волю Провидения). Как страшный суд, абсолютная Справедливость действует не через нас, а через своих абсолютных служителей – ангелов. Это раскрывается через притчу.
Таким образом, как бы само собой навязывается следующий вывод: Проникновение в божественный план Промысла ничего не оправдывает и не осуждает людей за их поступки, не содержит в себе никакой антроподицеи, ибо зло остается злом и не должно быть» оправдано», то есть стать правым из-за неблагого и необходимого замысла Промысла. Более того, зло, ведущее к лучшему, в этом лучшем из всех миров становится великим злом; зло, ведущее к «прогрессу», к справедливому строю, есть худшее зло, зло, которое осмеливается оправдываться тем, что воображает себя добром. В этом случае оправдывается не зло, а компрометируется проистекающее из него добро. Не цель оправдывает средства, а средства осуждают цель. Всякая телеологическая рационализация исторического процесса есть аморальное предприятие.
Рационалистическая теодицея морально непригодна для человека. Но годится ли он для Бога? В конце концов, дает ли это «оправдание Божества»?
Замечательная статья Н.А. Бердяева по теодицее в т. 7 настоящего журнала. Он содержит две основные идеи:
1. Отрицание ложной теодицеи, абстрактного монотеизма, идеи неподвижного, блаженного, элейского и нетрагического Бога, творящего мир и всю трагедию в нем, оставаясь при этом изолированным и бесстрастным. Такого Бога не следует оправдывать – это злой демиург, и атеизм прав по отношению к нему (с. 56-57).
2. Утверждение возможной теодицеи, как трагедии самого Бога, как жертвы Божией – страдания Божии, страсти Господни. Бог есть любовь и Бог есть свобода, а любовь и свобода есть жертва и страдание. Такая концепция предполагает, конечно, богочеловечность Христа и идею богоподобия человека.
В каком смысле представлена здесь положительная теодицея? Правильно – только одним способом: Бог огражден от упреков в том, что он «блаженство оставил Себе, а страдание – творению» (с. 55). Здесь Бог любит человека и страдает вместе с ним.
Можно ли признать такое решение исчерпывающим? В отрицательной части как бы звучит сильная мысль: совершенство, оторванное от мира, невозможно. Совершенство рядом с миром, лежащим во зле, и в качестве первоисточника и Творца этого мира есть, конечно, несовершенство. Если оно (совершенство) радуется своей самодостаточности, то тем хуже для него, чем оно несовершеннее. Конечно, совершенство здесь есть полнота и полнота (τέλος и πλήρωμα), и оно не может ничего оставить вне себя, оно должно все взять на себя и получить внутрь себя. Совершенство должно принять в свое сердце, вместить все зло, страдания и трагедии мира.
Но тут возникает трудность – совершенство наполнено несовершенством! Полнота, наполненная недостатками! Боже, взявший зло в Себя! И, наконец, страдание, смерть, переживание трагедии! Все эти отрицательные ценности (зло, страдание, смерть) оказываются заключенными в положительной ценности Абсолютного Добра – Бога как совершенства! Но разве трагически-страдающий Бог не является абсолютным противоречием? Применима ли категория трагедии к Богу?
Одно несомненно: в христианстве есть идея «страдающего Бога» и трагедии Бога и человека. Замечательно здесь то, что всякая трагедия божественно человечна и другой трагедии в собственном смысле просто нет. Трагично, что человек навеки соединен с Богом и навеки отделен от Него (Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?) — вечно несущий в себе святое и божественное и вечно отпадающий и теряющий. Такова природа идеального мира, идеи. («Sie ist nur da, inwiefern man Sie nicht hat und sie entflieht, inwiefern man sie fassen will» — Фихте).
Платоновский Эрос не просто бог и не просто человек, а «богочеловек» и потому трагичен, и судьба его есть трагическая судьба Психеи. Трагично для Бога соединиться с человеческой природой, и для человека трагично соединиться с Богом. Полное отсутствие трагедии было бы отделением человека от Бога, абсолютной самодостаточностью человека, не подозревающего Бога, и абсолютной самодостаточностью Бога, не смотрящего на человека. В смешении и соединении несовместимого заключается трагедия. Вот почему для гностика Василида трагедия мирового процесса завершается абсолютным разделением, обособлением сфер: бытие, отделенное от Бога, не будет страдать, потому что оно окутано «пеленой великого неведения»[1]. ]
Страдание и трагедия имеют своим источником всепроникающее единство. Если оставить противоположности в покое, не соединив их нитями (Платон), если не собрать их в одно, то явления несовместимости, противоречия, трагедии не существовало бы. Трагическое противоречие можно сформулировать по-разному: враги в любви (Ромео и Джульетта), невинная вина (Эдип), разрушение того, что достойно жизни и счастья. Но главная трагедия – это обвинение и наказание безгрешных и невиновных. Эта трагедия, так сказать, невыносима, и возникает вопрос: как это терпит Бог? Здесь заново ставится вопрос теодицеи: почему мир должен стать трагедией?
Чтобы ответить, надо прежде всего увидеть, что мир действительно трагичен, пережить и интуитивно проникнуть в сущность трагического. Нужно ли доказывать, что мир есть трагедия, что жизнь есть трагедия? Нравственный опыт убеждает нас, что весь мир лежит во зле, а между тем жизнь мира есть высшая ценность, космос есть красота, а все сотворенное, все истинно сущее слишком хорошо. Здесь трагическое противоречие, переживаемое со всех сторон человеческим духом: с логическим, этическим и эстетическим сознанием. Лучше бы мира не было! И вместе с тем: Нет, лучше бы! Быть – это больше, чем что-либо! Быть прекрасным!
Жизнь животного и растительного мира полна жестокости, страдания, самопожертвования, героизма – она трагична по своей сути, потому что безобразна и в то же время прекрасна. Трагедия природы в ее равнодушии, и она не была бы трагедией, если бы в ней не было странного сияния вечной красоты, если бы она не будила в душе невольного узнавания (да будет так! – И пусть…) .
Однако если мы поднимемся к высшим ступеням известного нам бытия – к собственной жизни, к судьбе свободного человека, к судьбам истории, то здесь сущность жизни раскрывается как трагедия ярче, чем где бы то ни было. . Это видел Будда, это переживал Сократ, Христос поднял это до высшей богочеловеческой высоты. И каждый человек в своей судьбе чем-то повторяет судьбу Сына Человеческого – в непризнании Его Прекраснейшим, в «законнических» обвинениях, во вражде фарисеев, в предательстве ученика, в Путь Креста жизни. История трагична – и в личной биографии, и в биографии народов.
Если есть и другие высшие сверхчеловеческие ступени бытия, как это предполагают все религии, мир ангелов, полубогов, титанов и героев, то и там высшей категорией достижения в их жизни является трагедия, как это видно из трагической судьбы прекраснейших ангелов. Трагедия есть основная историческая категория и вместе с тем высшая категория жизни в ее наибольшей полноте и богатстве. Потому что история должна быть историей всей жизни, со всеми ее сторонами и во всей ее полноте. Если жизнь каждого «я», каждого духовного существа есть странное сочетание необходимости и свободы, как мы знаем из собственного опыта, то трагедия истории есть обязательно судьба свободы, или свободы под властью судьбы. . Только свободное существо может быть во власти судьбы, только трагический герой имеет судьбу в полном смысле этого слова. Биологическая, причинная необходимость не есть судьба.
Так что нам не нужно доказывать, что жизнь — это трагедия, это каждый знает по опыту. Даже переживание счастья не отменяет трагедии, потому что это момент трагедии (например, «Ромео и Джульетта»). Кончина высшего и чудесного счастья трагична, и история, человеческая судьба не знает непреходящего счастья. Может быть, нам возразят, что повседневная жизнь скорее комична, чем трагична, а сама история народов обнаруживает «иронию судьбы» на каждом шагу. Это верно. Но дело в том, что комедия — это также возможный момент трагедии. Он находит себе место в каждой трагедии, охватывающей всю полноту жизни; ведь сущность трагического и комического, как намекает и Платон в своем «Пирре», одна и та же. Ирония судьбы часто трагична, а история народов — трагикомедия.
И все же необходимо доказать это утверждение, необходимо оценить всю его глубину и серьезность, ибо человечество в значительной своей части возбуждается желанием любыми средствами избежать трагедии, любым способом доказать себе, что все в природе и в истории идет хорошо, улучшается, прогрессирует, развивается, безошибочно достигает конечного земного рая. Свободная от трагедии философия истории очень распространена и очень разнообразна. Здесь на первом месте стоит атеистическая теория непрерывной эволюции и прогресса человечества. Конт, Фейербах и Маркс полностью следуют этой линии, которая проводилась со времен эпикурейского материализма и Тита Лукреция Карра. Совершенно откровенно Эпикур и Лукреций утверждают, что движущим нервом эпикуреизма является стремление разрушить всякую трагедию жизни и прежде всего трагедию встречи с потусторонним миром и его силами. На этой основе строится наивный оптимизм самодостаточного человечества, вообразившего, что все идет к лучшему и происходит само собой в силу каких-то имманентных законов развития.
Гегелевская формула о том, что история есть прогресс в сознании свободы, есть также попытка нетрагической философии истории — по пути рационалистического и пантеистического монизма, рассматривающего человечество и его науку и государственность как высшую степень абсолютного духа, такого философия неизбежно ведет к атеистической «религии для человечества», к Фейербаху и к Марксу. С тем же оптимистическим рационализмом она уверяет нас, что зверства в истории есть лишь «жертвоприношения на алтарь свободы», а под свободой здесь понимается торжество разумной регуляции всей жизни — это как раз и есть «свобода». это понимал и Маркс. Все идет хорошо, к «сознательному» и социально благоустроенному человечеству. Насколько глубже, серьезнее и ближе к трагической действительности современная форма безрелигиозного понимания истории, которую мы видим у Шпенглера: все растет, цветет и увядает, все стремится к закату!
Однако существуют не только атеистические построения нетрагической философии истории, которую можно назвать нетрагической антроподицеей; есть и нетрагические теодицеи, исходящие из понимания Божества, но по существу своему еще поразительно близкие первым по своему наивному оптимизму и рационализму. Телеологически действующая природа, телеологически развивающееся человечество, телеологически развивающаяся экономика, все это Провидение без Бога, точнее, Промысл, осуществляемый ложными божествами, — все это заменяется телеологически действующим Промыслом Божества в мире и в истории. Философское совпадение как раз и заключается в наивном рациональном телеологизме: causa finalis есть также causa efficiens. В таких условиях, конечно, ничего особенно трагичного быть не может, и в конце концов все складывается к лучшему в этом лучшем из миров.
Лейбниц в принципе воспринял рационалистическую теодицею стоиков. Провидение в основе своей рационально – каждая апория и каждая трагедия разрешаются до конца. Только на первый взгляд многое в природе и в истории кажется нам нецелесообразным; на самом деле Провидение все предусмотрело и всякое зло превратило в средство достижения большего добра. Мелко-наивный рационализм стоиков, утверждавших, что клопы существуют для того, чтобы люди не спали слишком долго, а мыши — для того, чтобы они не хранили свои вещи в беспорядке, в принципе ничем не отличается от грандиозного универсального рационализма Лейбница, вынужденного признать что вина Иуды есть «блаженная вина» (beata culpa, qui talem redemptorem exiguit).
Фактически вместо теодицеи мы приходим к самому страшному нравственному обвинению Божества, действующего по принципу, что цель оправдывает средства, строящего свое царство на грехе, слезах и страданиях. Если так обстоит дело в «лучшем из всех миров», то все, что нам остается вместе с Иваном Карамазовым, это отвергнуть все миры — и плохие, и хорошие. Шопенгауэр прав: попытка обойти трагедию приводит теодицею к самому вульгарному оптимизму: все хорошо в этом лучшем из миров! История превращается в нравственный водевиль со счастливым концом.
Римско-католический рационализм строит свое учение о Провидении на основе аристотелевского телеологизма и стоического учения о провидении. К этому добавляется юридическая теория искупления, превращающая величайшую из всех трагедий — Голгофу — в рационально протекающий и успешно завершающийся процесс между человечеством и Богом. Здесь всякая трагедия радикально удалена: и Бог справедливо удовлетворен, и человечество искуплено и спасено.
Разрушение трагедии здесь достигается главным образом за счет применения юридических категорий. Трагедия, однако, ускользает от всех правовых категорий: попробуйте юридически мыслить о делах Отелло или Макбета, и вы придете к ряду плоских банальностей. Это показывает, что категория трагедии бесконечно выше, сложнее и потому иррациональнее категории права. Может быть, трагедия есть вернейшее выражение предельной иррациональности бытия — сосредоточения и сгущения величайших и предельных апорий, ибо если этого непостижимого тупика (апории) нет, то в собственном смысле нет и настоящей трагедии.
В этом смысле наука трагична, в своих апориях, а философия — в своих крайних антиномиях (вроде восклицания Рише в его «Метафизике»: «Да, это абсурдно, но что с того, раз она существует»), этика тоже трагична. — в бесконечных столкновениях ценностей, в своем «pereat mundus, fiat iustitia» [да будет справедливость, даже если погибнет мир] искусство трагично — хотя бы потому, что вершина его трагична, религия тоже трагична — в своем мистериуме tremendum (ужасно человеку попасть в руки живого Бога), в постоянной близости к Богу и в бесконечной оторванности от Него – в богооставленности. Трагедия всей жизни и всей мировой истории, трагедия вселенская, религиозная, божественная и богочеловеческая, содержит в себе, как в фокусе, сосредоточение всех тупиков, непостижимости и противоречий мира. Здесь проблема проблем, точка столкновения и непостижимого единства, здесь точка примирения несовместимых противоположностей. Всемогущий Бог держит в Своей руке то, что непреодолимо отталкивается. И это примирение несовместимого переживается как изумление, ужас, трагедия; и вместе с тем сильнее всего чувствуется в нем рука Божия. Вот почему страшно попасть в руки живого Бога, и в этом страхе — древнейший опыт трагедии.
Только здесь находит свое объяснение то странное духовное переживание, что в страдании, в тупике и богооставленности сильнее всего ощущается присутствие Божие, — здесь, в крайней трагедии, сокрыта истинная теодицея, потому что именно здесь открывается Бог. – в непостижимости Его Промысла.
«Из глубины моей (de profundis) я воззвал к Тебе, Господи!»
Wer nie sein Brot mit Trähnen as,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sas,
Der kennt euch nicht, ihr hismlsche Mächte!
[2]
Судьба Иова ясно показывает, что именно в переживании глубочайшей трагедии происходит встреча человека с Промыслом, именно здесь – в этом последнем почему? – человек стоит лицом к лицу с Богом, но не может видеть Его Лика. Можно сказать: где действует Бог, там все непонятно человеку, а где все понятно, там нет встречи с Богом — там имманентный мир человеческих расчетов и предсказаний (своего рода «провидение»). Полностью разгаданное и рационализированное «Положение» перестало бы быть божественным — его рациональная целесообразность самым недвусмысленным образом обнаруживает здесь человеческий замысел. В своих мнимых утешениях друзья Иова являются представителями мира разумной теодицеи: они стремятся «оправдать» Божество, скрыть зияющую бездну трагической несправедливости разумных доводов, найти в судьбе Иова справедливость и целесообразность по своему разумению. Однако оказывается, что в обвинениях Иова, адресованных Богу, больше правды, чем в «оправданиях» рациональной теодицеи, придуманных его друзьями. Кто затемняет Провидение бессмысленными словами? Вот что Бог говорит обо всех этих «теодицеях».
В своем трагическом опыте Иов ясно почувствовал несправедливость этих теодицей, и Сам Бог подтвердил абсолютную правоту этого чувства. После категорического осуждения человеческих «теодицей», затемняющих Промысел, что Он говорит Иову? Он раскрывает перед собой ряд проблем и тайн неба и земли; Он открывает Себя или, вернее, прячет Себя как проблему всех проблем; и тогда трагическая апория Иова оказывается одним из моментов в великом венце божественных таинств. История Иова не может быть понята и «оправдана» через имманентный логос этого мира, по методу Гегеля и Лейбница — она имеет пролог и эпилог на небе, в потустороннем мире. И то, что там происходит (заповедь, данная Богом Сатанаилу), непостижимо для человека и неприемлемо для человеческой этики. Это не решение, как нам может показаться, а углубление трагедии и проблематизма – здесь Бог не определяется человеческими понятиями о добре и зле. Ведь для Иова эта потусторонняя теодицея остается совершенно неизвестной; Бог не сказал ему о ней.
Трагедия Иова, как учит наша Церковь, действительно есть прообраз Голгофы, потому что Голгофа есть предельное выражение трагедии, которая может постичь Сына Человеческого и сынов человеческих. Видеть здесь разумную целесообразность и даже юридическую справедливость — значит действительно затемнять Промысел бессмысленными словами, а еще хуже — затемнять суд добра и зла (beata culpa!). Всякая разумная и святая воля может желать разумной целесообразности и справедливости. Однако этого не может желать самая разумная и самая святая воля – Богочеловека. За это высшая человеческая мудрость и святость, несмотря на все «теодицеи», только и могла сказать: да минует меня эта чаша! Означает ли это, что Христос не увидел, что все хорошо в этом лучшем из миров? Или это слова человеческой слабости? Такое предположение было бы самым поверхностным и неуместным, и оно опровергается словами: да да будет воля Твоя. Принятие воли Божией, Промысла не обусловлено сознанием человеческим разумом ее рациональной целесообразности. В молитве о чаше нет ни слабости воли, ни ограниченности человеческого познания, а напротив – совершенно верное суждение святой воли о человеке: мы не можем желать, чтобы Богочеловек был распят, мы не может принять того, что Справедливость распята на кресте, желать этого преступления даже при полной готовности к страданию и самопожертвованию. Иов все время молился: да минует меня эта чаша! Так же, как и Христос – и не по слабости, а по осознанию своей абсолютной правоты. Мы не должны желать страдающей и униженной праведности.
Трагедия Голгофы исчезает, если мы признаем во Христе одну волю (монофелитская ересь) — только человеческую или только божественную. Трагедия раскрывается во всю глубину только в утверждении двух воль: человеческой и божественной; заявление, за которое был замучен один из величайших отцов Церкви – Максим Исповедник. Если в этой чаше, прошедшей от Меня, выражается воля, святая воля Сына Человеческого, то в воле Твоей, а не в Моей, присутствует божественная воля Отца (Я и Отец — одно). Настоящая апория трагедии состоит в том, что человеческая воля может быть безусловно ценной и святой даже тогда, когда она противоречит воле Отца, Промысла, когда она не будет исполнена. Вот чего не могут понять друзья Иова.
(продолжение следует)
Источник: Вышеславцев Б. «Трагическая теодицея» — В кн.: Путь, 9, 1928, с. 13—31.
Ноты:
[1] Карсавин Л. Святые Отцы и Учителя Церкви, Париж, 1927, с. 31.
[2] Кто не пролил слез над своим хлебом
Кто у своей постели, как у могилы
В бессонные ночи он не плакал –
Он не знает вас, о высшие силы!
(Гёте, Вильгельм Мейстер).